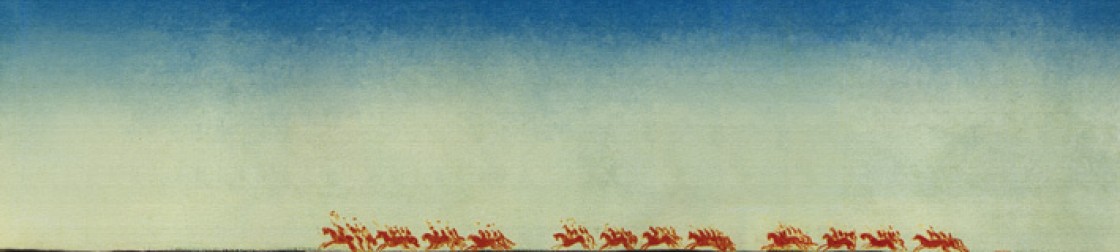ПРИНЦЫ ОДИНОЧЕСТВА
Цветков А. Король утопленников: Прозаические тексты
Алексея Цветкова, расставленные по размеру. — М.:
Common place, 2014. — 224 с.
Начиная разговор о книге Алексея Цветкова-младшего (далее — Цветков), нужно упомянуть об издательском проекте «Common place», в рамках которого она вышла. Он объединяет причастных к левой публицистике людей, анонимным образом выпускающих самые разнообразные книги; здесь вышли сборники статей известных журналистов Елены Костюченко и Павла Пряникова, Манифест коммунистической партии и роман Кретьена де Труа «Ланселот, или Рыцарь телеги». Набор не самый очевидный, и есть искушение представить сборник Цветкова как точку схождения многогранных интересов издательства: история левого движения, актуальная журналистика, европейская классика. Все это существует в рамках общего места (common place), которое освобождается от своего пейоративного значения и становится местом, где любой культурный жест приобретает политическое значение.
Политическим активизмом Цветков занимается уже более двадцати лет, начиная с событий 1991 года. Об этих эпизодах его биографии рассказано в мемуарной книге «Баррикады в моей жизни», на которую ссылается историк акционизма Павел Митенко, рассматривающий эти события через категорию сообщества как «общего места(выделено мной. — Д.Л.) проявления различий»[3]. Современные теоретики описывают сообщество как взаимодействие сингулярностей с их «непредсказуемостью и воплощенной возможностью перемены»[4]. «Нарастающий поток, сметающий прежние мифы и идентичности»[5], без труда обнаруживается в публицистических «Баррикадах…», где повествователь почти неотличим от фигуры биографического автора. В восприятии своей политической биографии как литературного сюжета у Цветкова не так много предшественников, и центральное место среди них занимает, конечно, Эдуард Лимонов[6]. Именно он в 1990-е годы создал своеобразный эталон «революционной литературы» как исповеди о политических пристрастиях и противостоянии репрессивным аппаратам государства. Кажется, никто из политизированных литераторов последних пятнадцати лет не избежал этого влияния, а такие ключевые фигуры литературного мейнстрима, как Захар Прилепин и Сергей Шаргунов, и вовсе сделали себе карьеру на использовании основных мотивов прозы Лимонова (эгоцентризм, антиинтеллектуализм, упоение милитаристской эстетикой etc.).
Цветков-публицист с интересом относится к подобной литературе, тогда как Цветков-прозаик вряд ли продолжает традиции Лимонова. В его художественной прозе ангажированная позиция совмещается с достаточно изощренной стилистикой и отмечена несовпадением между рассказчиком и автором. В ранней повести «Сидиромов» (1997) повествовательное «я» свидетельствует о трудах и днях некоего молодого человека, чья фамилия дала название повести. Подобный «вид сбоку» позволяет не только оттенить героизм, присущий прозе Лимонова и его эпигонов, но и дробить повествование, не останавливаясь на сюжетных нюансах каждого отдельного фрагмента. Персонаж Цветкова — асоциальный невротик-мегаломан, чья жизнь изменяется в процессе взаимодействия с политическими технологиями. Фантазии о предстоящих революционных событиях выстраиваются по законам телевизионного зрелища, что убеждает автора в том, что любой, даже самый радикальный протест управляется властью (частотность подобных выводов в прозе Цветкова отмечал Дмитрий Голынко-Вольфсон[7]). В рассказе «TV для террористов» герой оказывается создателем санкционированного властью альтернативного телевидения, производящего новые варианты реальности. Калейдоскопичность текста уравновешивается телеграфным стилем повествования от лица одержимого «конвульсивной красотой» героя:
«Я уже слышу их монотонные, как орнамент, вопросы в наших наушниках. Слова языка, который через миг перестанет принадлежать кому бы то ни было. Представляешь себе: мы летим в пустоту — никого на борту»[8]. «Конвульсивная красота», как легко предположить, отсылает нас к Андре Бретону, который является для Цветкова автором, чей эстетический радикализм неотделим от радикальной политической позиции. Разумеется, Бретон — не единственный художник, совмещающий политику и эстетику, но именно он и сюрреалисты вообще довольно активно используют, так сказать, революционный потенциал сновидения. Описанное в «Толковании сновидений» фантазийное сгущение вполне согласуется с телеграфным стилем прозы Цветкова, приобретающей тем самым политическое измерение: с одной стороны, сновидение позволяет с легкостью преодолевать когнитивные границы символического порядка, который должен быть упразднен, с другой — содержит утопический субстрат, столь важный для неомарксистской теории[9].
Насколько особенности ранней прозы Цветкова характерны для текстов, вошедших в книгу «Король утопленников»? За десять лет в этой прозе не произошло принципиальных изменений (это редкость и для более плодовитых авторов). Изменились лишь тематические акценты, связанные с описанием механизмов функционирования власти. В новой книге Цветкова власть не только предстает как инстанция, которой «доступны… сны <…> и причины их сочинения»[10], но и воплощается в совершенно реальной фигуре, в прямом смысле меняющей оболочку персонажа. Так, по слову олицетворяющей верховную власть фигуры — незатейливо названной Президентом — группа революционеров превращается в рождественских старичков, разносящих подарки («Про Дедов Морозов»): «Уважаемые бунтовщики. Я нашел вам работу. То, что вы бород не стрижете — это очень похвально, только мы их вам перекрасим, чтоб у всех был один цвет — нордический. Потому что в столице реально сейчас не хватает Морозов» (с. 17); «Казнь — это негуманно <…> к тому же вас будут любить как мертвых партизан, растоптанных жестоким тупым миром. А я хочу, чтобы вас любили как живых Дедов Морозов» (с. 18). Вместо отмены существующего авторитарного порядка революционеры — в образе рождественских персонажей — делают его символические границы более прочными. Впрочем, рассказ заканчивается на довольно неожиданной — и от этого несколько искусственной — ноте: один из мальчиков видит во сне Бога, который поселяет в его душе агностицистское сомнение. «И от удивления, что Бог приоткрыл ему такую тайну, мальчик, конечно, проснулся. <…> — А все же это была очень особая конфета от очень странного Мороза, если после нее мне снился столь необычный сон» (с. 21). Сон приостанавливает наличный порядок вещей и намекает на иную логику существования: тут важно и появление карамели, которая служит ее быстро исчезающим вкусовым эквивалентом. Можно счесть этот текст кафкианской притчей[11], а можно — достаточно злой сатирой. При этом довольно трудно понять, на кого она направлена: на весьма условных партизан, на горожан-обывателей или возвышающуюся над ними власть? Думается, ни на кого конкретно. Скорее, этот рассказ — будучи пастишем — вскрывает саму ситуацию условности, где один социальный типаж может быть без видимого ущерба заменен другим. Если в ранних текстах Цветкова власть «создавала» политический субъект, предоставляя ему определенную свободу действий (которая потенциально могла быть использована и для дискредитации/подрыва самой этой власти), то теперь ей проще предотвратить его появление: «Каждому найти нужно свое место <…> думаешь, что ты партизан и народный мститель. А дашь тебе мешок и шапку красную, вот ты уже счастливый, бесплатно раздаешь ребятам радости из мешка» (с. 20). Потенциальный революционный субъект «меняет лицо» и намертво закрепляется в рамках медийного типажа из рекламы прохладительного напитка. В несколько иной плоскости эту проблему освещает рассказ «Ценарт», где некий Продавец делает головокружительную карьеру художника, продающего полотна, составленные из штрих-кодов. Цветков иронизирует над законами арт-рынка: выходит не очень смешно, но уже не из-за горечи, как в рассказе про Дедов Морозов, а ввиду очевидности выводов о пронизывающей художественную среду конъюнктуре. Гораздо важнее описываемое Цветковым изменение «профиля» современного художника: от рискующего телом и сознанием мегаломана-«демиурга» («ТV для террористов») до чуткого к интеллектуальной моде индивида, в каждой новой ситуации конструирующего себя заново («Ценарт»). В героях появилась пугающая легковесность: «Своеобразный марксизм был моден в кругах арт-критиков. Он это быстро выучил» (с. 25). Прибегая к платоновскому различению, можно сказать, что если раньше герои Цветкова стремились к знанию (даже Знанию), то теперь вполне обходятся мнениями. Стилистически это маркируется при помощи легкой, (квази)объективистской манеры письма, сменившей напряженное эгоцентрическое повествование. Смене стилистических доминант соответствует и смена сюжетных акцентов: герои больше не приближают революционные события, но рассуждают о них в различных интересных обстоятельствах. В рассказе «Мировая революция» эти события воспринимаются почти как эстетический феномен, позволяющий придать остроту намечающимся любовным отношениям.
Ранний Цветков ориентировался на опыт переводной (постмодернистской литературы (от Борхеса до Джулиана Барнса), рассматривая сквозь эту «сложносочиненную» призму не поддающуюся описанию реальность девяностых. Для прозаиков — ровесников Цветкова, связанных как с «Вавилоном», так и с «Митиным журналом», подобное соединение было распространенным явлением, но Цветков разрабатывал его наиболее последовательно. Тогда ему удалось найти язык для описания субъекта, болезненно освобождающегося от пут (имперсональной) власти, производным от которой он является: эта коллизия рассмотрена Цветковым в различных сюжетных комбинациях. Но на материале двухтысячных — а именно им посвящена книга «Король утопленников» — эта стратегия начинает буксовать. Как уже было сказано, привычный герой Цветкова просто-напросто исчез. Это вызвано, во-первых, «нормализацией» политической активности, предпринимаемой идеологическими и репрессивными аппаратами государства, а во-вторых, поиском ориентированной на левую мысль литературы новых форм коллективности. Эгоцентрические герои Цветкова, ускользнув от «ока власти», оказываются в одиночестве, по ту сторону идеологии, где городской партизан неотличим от Деда Мороза и наоборот. Именно в этой полосе отчуждения существуют персонажи центрального текста книги — повести «Сообщения». Некогда связанный с медиаактивизмом, сегодня Глеб занимается изготовлением стерильных фотографий для глянцевого журнала и воспитывает юную дочь. Его жизнь состоит из ненормированной работы, бесцельных прогулок, наркотических трипов и бесед с другом со странной фамилией Шрайбикус. Именно он — как Сидиромов в одноименной повести — оказывается настоящим героем «Сообщений». Стремясь освободиться от каких бы то ни было обязательств перед обществом, он слишком зависим от своих источников дохода, прежде всего копирайтинга («…намазать сексуальным маргарином каждую строку текста, так чтобы ее нельзя было не купить» (с. 119)). Интересно, что Шрайбикус воспринимает мир через кинематограф, сочиняя рецензии на несуществующие фильмы: каждая из них, решенная в стилистике журнала «Афиша», вроде бы отсылает к некоему реально существующему кинопроизведению, но это всегда обман зрения. Можно предположить, что подобное «взаимодействие» с массовым кино — которое, как известно, с самого начала было связано с коллективными формами существования — является для Шрайбикуса единственным способом удержания горизонта совместного бытия (сообщества). Кинематографические сюжеты пронизывают буквально каждый шаг персонажей книги: рассказ «Мировая революция» напрямую отсылает к Годару, а Глеб и Шрайбикус — наверняка имея реальные прототипы — явно списаны с героев фильма «Бойцовский клуб». Кроме того, Шрайбикус напоминает и другого персонажа предыдущей эпохи — Вавилена Татарского, с той лишь разницей, что ему не удается стать «хозяином дискурса». Присутствует в повести и столь значимый для Цветкова онейрический мотив: «Сообщения» заканчиваются тем, что герои неожиданно засыпают. Но их сновидения больше не несут освободительного потенциала и не указывают на иные логики существования: они заполняются симулятивными образами и сюжетами, окружающими персонажей в их дневной жизни. Так, Глеб видит успешное выполнение очередного заказа, его дочь — нуждающихся в помощи индейцев из документального фильма, а Шрайбикус — эдипальный этюд о некоем нечитаемом словаре (после чего «он, хохоча, читает неизвестные слова» (с. 139)). Последний абзац повести все расставляет по своим местам: оказывается, сны производятся властной фигурой по прозвищу Зажмуренный, который «решает, чем завтра Глебу заняться» (с. 140). Условность этой фигуры — соотносящаяся со схематизмом повести вообще — отсылает к ранним текстам Цветкова: тотальный контроль ощущается персонажами на уровне психосоматики.
Подведем итоги. В «Короле утопленников» Цветков вновь обращается к теме моделирования субъекта властью. Эта коллизия разворачивается как в рамках притчи («Про Дедов Морозов»), так и на повседневном «реалистичном» материале («Сообщения»). Нередко эти подходы объединяются: в рассказе «Ценарт» жизнь современного художника рассматривается сквозь призму созданного им бренда. Названные тексты — лучшие в сборнике, в котором довольно много затянутых мест и банальных сюжетных решений. «Фирменные» приемы Цветкова — игра с повествовательными масками вкупе с мерцающим сюжетом — оказываются бессильны при описании реалий последнего десятилетия. На мой взгляд, это связано с изменением социокультурного контекста. Дискурс радикальной политики нормализуется или вовсе вытесняется из публичного поля, в результате чего привычный герой прозы Цветкова уплощается и/или оказывается в одиночестве, с трудом пробиваясь к другим атомизированным субъектам.
Денис Ларионов