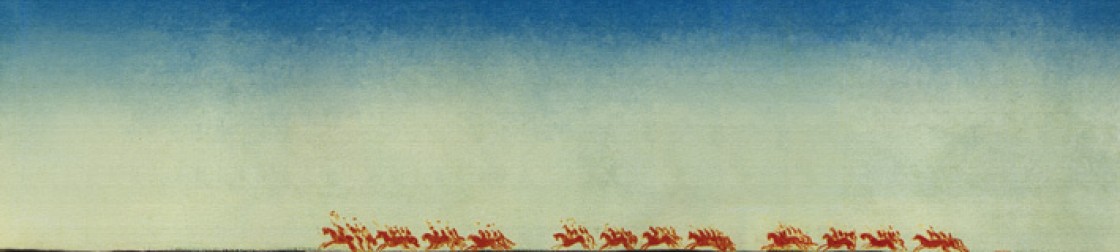Новый Макбет в мейерхольдовском Центре.
Собирая реквизит для своего “Макбета – bloody pit of horror”, Владимир Епифанцев купил в морге за 30 долларов настоящий череп. Спектакль больше похож на гностическую мессу, изобретенную Алистером Кроули, или на маскарадную вечеринку другого официального сатаниста Шандора Ла Вея. “Живая Тау” – симпатичная жрица на алтаре, царящая над сценой, спускается вниз и пачкает лоб монаршей кровью только в третьем действии, как и рекомендовано “отцами веры”.
Весь ритуал сопровождается живым звуком в исполнении бон-ансамбля геноссе Тегина. Костюмы короля, королевы, прекрасных ведьм и темных духов, все эти чулки, утрированные корсеты, платиновые парики, стальные доспехи, вурдалачьи сутаны, черепа парнокопытных и тибетские маски мертвых — от Светланы Тегиной, воссоздают обязательную для всех епифанцевских шоу пряную атмосферу куртуазного садо-мазо. Три ведьмы, призрак, жрица, леди Макбет (Наталья Симакова) и, конечно же, главный киллер и страдалец (Епифанцев), как всегда, двигаются подобно киборгам или медиумам, плененным духами, переставляющими людей по сцене как шахматные фигуры. Все монологи и другие звуки идут в зал с пульта и записаны заранее, увеличивая эффект демонстративной одержимости, без которого, вслед за Арто, Епифанцев не представляет себе театра. Собственным, специально не слышным в зале, голосом, леди говорит лишь в момент пробуждения—смерти, когда ведьмы укладывают её в вечную ночь лицом вниз. Даже в преступном экстазе или эротических объятиях на лицах актеров не проступает ничего индивидуального. Полностью отсутствует пресловутая “психология” и “вживание в …”. Скорее происходит обратное, выбранный образ поглощает актера и рулит им, уподобляя человека всего лишь знаку ритуальной формулы. Главное “злодейство” на этой сцене – покушение на первоначальные принципы самого светского лицедейства. Вся театральная традиция Нового Времени игнорируется ради мистериальных радостей средневековья или сверхчеловеческого пафоса эсхиловской античности.
Православный семинарист, заставивший себя придти и досмотреть сие “демоническое действо”, говорил мне, что непрерывно молился час и сорок минут, прося у бога сил выдержать до конца и не впасть во искушение. Официальная премьера 1-ого февраля в Центре Мейерхольда не обошлась и без других казусов. Начали на час позже. Некоторые зрители, просто купившие билет и ни о чем не предупрежденные заранее, громко недоумевали или уходили, не выдержав финальной пляски “истребляющего духа”. Какой-то остроумник выкрикнул под занавес: “Я буду жаловаться Мейерхольду!”. Примечательно, что Мейерхольду, а не Шекспиру, который, как знаем мы из Поля Арно, всю жизнь увлекался оккультной модой своего времени – герметизмом, алхимией и церемониальной магией, черпая там многие сценические идеи. На предпремьере в январе реакция была совершенно другой. Долгие аплодисменты, цветы в обагренных руках актеров и хвост поклонников у гримерной. Тогда “просто купить билет” было нельзя, весь зал был приглашен по списку, а следовательно, знал, что такое “Дрема”, “Культиватор”, или сквот в Фалеевском переулке. Выходя за пределы субкультуры всегда есть риск оказаться непонятым даже в самых элементарных своих заявлениях. Этот текст имеет целью частично реконструировать прошлое епифанцевского проекта, без которого его настоящее будет вызвать слишком много давно решенных режиссером вопросов.
Утиное мясо.
Незадолго до “Макбета” мы сидим в детском кафе, кусаем цыплячьи ноги и разговариваем о каннибализме. Володя говорит о том, что желание съесть выбранного врага сырым, дымящимся, еще стонущим, хлебнуть его испуганной крови, как это делали амазонские карлики до прихода иезуитов, мять в руках ускользающие сквозь пальцы змеиные клубки внутренностей, ловить глазами последний обожающий взгляд свой жертвы, посланный уже с той стороны — это неизживаемо, а значит запрет на это всегда будет действовать как реклама. На всех? Нет, пожалуй только на тех, кто не разрешает себе чего-то подобного хотя бы условно, ритуально, театрально, главное – публично. На тех, у кого отсутствует компенсация инстинктов, действующая путем их обнаружения, манифестации. Как и всякая прививка, она оправдана только в определенных дозах. Уметь делать такие инъекции это и есть талант. Знать дозу, после которой прививка превращается просто в заражение, это и есть вкус. Таким образом, художника от врача-убийцы отличает ничтожная доза одного и того же жеста, взвешенная на внутренних весах.
Мы говорим о великих сериал-киллерах, о международных террористах, об ацтекских жрецах с длинными иглами агавы, удобными для ритуального кровопускания. О “народном театре”, как его понимал главный для Епифанцева театральный авторитет Антонен Арто. О том, что такой театр предполагает факельные шествия вокруг вязанок пылающей макулатуры (должен же книжный рынок избавляться от излишков архива). Об антигравитационном протесте как причине прямохождения. О восстании на “Ферме Энимал”.
В новом спектакле Владимира Епифанцева “Утиная Охота” природа снова возьмет верх над человеком. После нескольких вампиловских сцен пьеса будет продолжена в соответствии с изменившимися историческими реалиями. Прежде являвшийся на сцене в качестве приведения-великана господин Дональд Дак по-утиному насилует жену главного героя, собравшегося-таки на охоту, но опешившего от аморального зрелища супружеской измены с мультипликационной птицей. Дак методично, изощренно и ритуально убивает почти всех антропоморфных героев, не мстя за своих, но просто выполняя миссию. Это и есть библейское ощущение в чистом, свободном от конфессионального декора, виде: когда ты видишь перед собой действующего, но ничего не понимаешь и даже умозрительно не можешь объяснить его действий. “Полузнание”, абсолютное в своей статической (“он экспериментирует”) и невозможное в динамической части (мы не знаем кто “он” и как он “экспериментирует”). После казни людей начинается утиная вакханалия под сенью американских флажков. Все, кто хотя бы немного знаком с многочисленными проектами Епифанцева, уже догадались, что сценарий вновь не обошелся без вмешательства известного конспиролога и критика Олега Шишкина, пару лет назад порадовавшего своей книгой “Битва за Гималаи” всех любителей оккультных тайн внутри НКВД, а сейчас готовящего новый хит “Оккультный Кремль” — история института по изучению мозга Ленина и замыслы советских генетиков — “обезьяноводов”, пытавшихся, в общественно полезных целях, вывести промежуточное звено между обезьяной и человеком.
ТV не для всех.
Согласно телевизионной теории Шишкина, мир буквальных подобий, неизменно встречаемый нами на голубом экране, бестиарий точных двойников может быть обрушен только радикальной режиссурой и соответствующими, нездешними, символическими сюжетами, превращающими телевизионное впечатление в нечто, без труда отличимое от человеческой обыденности. Зритель среагирует на адресованный ему жест только если отменить саму оппозицию “предмет-изображение”, избавить зрителя от постоянного “узнавания”. Если все наши дни сделать абсолютно одинаковыми, нас пленит иллюзия одного, вечно длящегося дня, “эффект отличения” исчезнет. Такая “неделя из семи пятниц” – утопия телевидения как большого проекта. Недостижимая, как и любая утопия, и все же, как и любая утопия, чрезвычайно важная для понимания характера самого телевидения.
Четвертый час мы с Епифанцевым находимся за монтажным пультом. Наша цель – сюжет о революции 68—ого года в Париже. Я читаю свой текст об уличных столкновениях и настенных граффити в условиях нервно-паралитической цивилизации. “Ничего подобного в России никогда не было” – после каждого моего абзаца добавляет Епифанцев голосом лоботомированного Левитана. Я слежу, как он работает, убыстряя движения уличных прохожих, врезая в ролик долисекундные вспышки из своих любимых видеофильмов-катастроф, почти не улавливаемые ухом обычного зорителя вскрики потусторонних лярв, кадры падающего в атлантический океан раскаленного астероида и режущих паркет белых женских ногтей. Без сомнения, передо мной человек, переросший свой телевизионный профессионализм и относящийся к нему, как к тормозящему искусство обстоятельству. Профессиональная работа с изображением в таком случае именно преодолевается, и чуткий зритель получает возможность вместе с режиссером испытать удовольствие от перешагивания через еще один обманывающий “закон”.
“Когда я учился в ГИТИСе у Фоменко, то никогда не ленился участвовать в капустниках” – делится Владимир, отвлекаясь от монитора. Мы решаем вставить в наш сюжет хронику стрельбищ на тайном полигоне Э.Т.А, хотя они здесь и не при чем. Вместо фотографии подростка-маоиста, утопленного полицейскими в Сене, идет портрет Епифанцева-школьника. Сюжет появился в первом же “Музобозе” с володиным участием и вызвал публичную истерику Кушинашвили, навсегда запечатленную на пленке. Особенно взбесило спесивого ведущего не умещающееся в его голову слово “ситуационисты”. В той же передаче был и автобиографический клип с запоминающимся словом “шпицрутены”, сообщающий, что Владимир ни кто иной, как сын исполнителя главной роли фильма “Угрюм-река”, и до того, как заняться сценическими действиями, работал на заводе в родном Сергиевом Посаде, увлекался постановочной фотографией на тему бытовых убийств, недавно ставил “Струю Крови” (сразу узнаваемый Арто), “Сатана идет на работу” (не сразу узнаваемый Ла Вей) и “Забастовку на текстильной фабрике” (так и не узнаваемый Хэмингуэй), а сейчас собственноручно обустраивает здание личного храма искусства. Подтверждая сказанное, Епифанцев, напоминающий фото бритоголового Андрея Платонова времен расцвета сталинского стиля, бил кувалдой, бросал бревно и скрипел тяжелыми стальными воротами.
После “Деконструктора” и “Дремы” (поздняя ночь на шестом канале) у него сложился узнаваемый телевизионный стиль, однозначно определяемый поклонниками как “вервольфовский” т.е. содержащий в себе вопиющую конечность самих зрителей, воплощающий их жертвенное по отношению к экрану положение. Во многом такой эффект обеспечивался не только обгоняющим зрительные способности монтажом и садо-мазохистским имиджем Епифанцева-доминатора, но и нечеловеческим саундреком индастриэл-партизана Роберта Остролуцкого, “эксгумирующий” звук которого – постоянное блюдо епифанцевской “харчевни для железных душ”.
В “Культиваторе” к музыке, пластике и стилю ведения прибавились телесериалы нового типа (сюжеты Шишкина): говорящая овчарка Бригитта в облике сладострастной птушницы преследует бросившего ее хозяина-дембеля и с криком “мама” перекусывает ему горло; абориген-проводник заводит геологов в безвозвратный район и, рассказывая им легенды о хозяине тайги, устанавливает в геологической партии поистине полпотовское правление, недовольные ученые убивают хозяина, но он встает со дна реки, чтобы забрать свою гитару и всех замочить. Последний сценарий — наглядная иллюстрация фрейдовской версии происхождения патриархального монотеизма т.е. религии убитого всеми “отца”, взыскующего свою (наибольшую) долю не смотря на персональную смерть. Помню, такая расшифровка очень заинтриговала Епифанцева и мы долго беседовали о скользкостях психоанализа, неизбежных в деле расшифровки “народных” историй т.е. таких, у которых нет известного нам автора, которого легко можно было бы дидактически проанализировать, все свалить на вечную войну обезьяны (Ид) и полицейского (Супер Эго) и дать всем спокойно уснуть.
Драмы в сквоте.
На его спектаклях задаешься самыми базовыми вопросами: Зачем человек играет? Затем, что игра это произвол. Играющий воплощает волю к необязательному, ничем не обусловленному. Даже играя раба, человек становится господином т.е. субъектом. Игра как возможность ритуала т.е. уподобления божеству. Для антиклирикалов такая акция имеет особый смысл: играя того самого “хозяина тайги”, всемогущее божество, когда-то “вытесненное” нашим биологическим видом из джунглей своих неосознанных страхов, ты терапевтически возвращаешься к самому корню невроза, породившего практику повторяющегося культа (циклический календарь “служб” любой конфессии), избавляешься от этой травмы и отклоняешь претензии клирикалов на монополию в области обучающих и напоминающих игр для взрослых.
Ритуал в жизни каждого необходим как избавление от проклятой части, от избытка витальной силы, подаренного нам просто так, из солнечной роскоши. В самом же пространстве ритуала участник полностью манифестирует свое действительное представление о положении вещей, наконец-то выражает то невербализуемое сообщение, которое никогда бы по-другому не уместилось в его словах, сообщение, всегда прерываемое самим языком. Не знаю, как для прочих актеров, но для Епифанцева его постановки всегда были сеансами групповой психиатрии. Такой ритуал герметичен, потому что его предмет невозможен до конца ни в системе означаемых, ни в системе означающих. Такой ритуал — наблюдаемое нами посредничество между этими системами, столь редко опознаваемая связь.
Строение без адреса, спрятанное в двойном дворе бывшего департамента через реку от Кремля (самый близкий адрес “Фалеевский Переулок”), помещение, которое Епифанцев с 98-ого по 2000-ый делил с тибетским музыкантом Тегиным, — самый настоящий сквот т.е. место, захваченное людьми без оглядки на власть и использованное ими по усмотрению. Столь анархическое отношение к формальной (административной) власти в описываемом случае есть следствие аналогичного игнорирования арт-иерархии и ее “законов”. Не смотря на свои, быстро замеченные и столь же быстро закончившиеся, телеуспехи, Епифанцев и его команда с иронией относятся к художникам, вращающимся как пропеллеры на члене кайфующих кураторов. “Это актеры, а не режиссеры” — говорит Володя о “более системных” своих коллегах и в устах его такая фраза приобретает зловещий оттенок.
Первый же спектакль в сквоте — “Ромео и Джульетта” доставлял публике настоящее т.е. физическое удовольствие, а физическое удовольствие это та часть ритуала, которую невозможно “рефлексивно” игнорировать.
Садомазохистские сцены затянуты ровно настолько, чтобы с одной стороны вызвать у зала желание спасать Джульетту, но с другой: не допустить беспорядка в зрительских рядах. Ромео, решенный в амплуа любимых зверобогов режиссера — Кинг-Конга и Годзиллы, является из темноты с черепом кавказского барана на плечах вместо человечьей головы, под музыку Андре Геньёна. Джульетта, решенная в образе семитской красавицы-недотроги, идеальной жертвы, напоминает не столько о холокосте, сколько о самых веселых и неортодоксальных кварталах ночного Тель-Авива. Объясняясь, Ромео берет ее руку и погружает по запястье в кипящий заварной чайник. Вся речь героя уже тогда идет с пульта, а он — медиатор, медленно, телесно сопротивляясь, не желая так скоро умереть, открывает рот и стоически выдает сказанные слова за собственные. В финале с черного глянцевого неба на влюбленных льются литры черной глянцевой венчальной крови. Никаких истерик, матершины, кривых цитат, эрегированных фиг в кармане и прочего срама, свойственного театральным “новаторам”. Ритуал выдержан в величественном катастрофическом стиле. Свет, звук, и пара обреченных, пожираемых безымянной страстью.
“Было еще очень сыро” — комментировал Епифанцев дебют своего театра на новом месте – “вот сейчас мы двигаемся и выглядим как настоящие роботы”. Симптоматичный комплимент. “Как роботы”. Принцип Епифанцева: самопревращение тела актера в механическую куклу, в голема с оживляющей печатью на лбу. Играть нужно не персонажа, но личного гения, агента судьбы, вселяющегося в предложенный двуногий объект, играть, значит впускать того, кто властной лапой поворачивает все твои ручки. Именно зрелище такой “роботизации”, отказа от человеческого фактора ради обретения надиндивидуальных признаков, и обеспечивает пресловутый “гипноз” епифанцевских постановок.
“Маяковский — Ray of Darkness in the Omnious Kingdom of the Light”. Другое Шоу выдержано в обстановке черного иррационального большевизма (большевизм в данном случае это форма воли к власти, травматичнее всего выказавшая себя в нашей национальной памяти). В чудотворно ужасающих толщах звука сражающийся поэт командует парадом собственных демонов. Его вдохновляет нежная и беспощадная валькирия революции. Самые социальные стихи Маяковского, вышвыриваемые в зал как проклятия, звучат будто только что явившиеся хлыстовские глоссолалии.
Непременная тема всех епифанцевских трагедий – самозабвенная обреченность мужского принципа, воздвигнутого, как скала, в предательском океане женского хаоса слепых желаний. Автоматически определяя его эстетику как садомазохистскую, критики игнорируют сам смысл проблемы: удовольствие в с\м, самом театральном “извращении”, достигается не за счет боли или страха, но за счет возможности играющих иносказательно выразить правду о господствующих социальных отношениях. Иерархическое общество не может не быть садо-мазохистским, весь “кайф” стиля умещается только в обнаружении неравенства, в своеобразной “критике поведением”. В обычных, не игровых условиях, такое обнаружение немедленно привело бы любого из нас к экзистенциальному столкновению с системой и ее искаженным языком. Что и происходит в нехудожественной реальности: как и все сквоты в мире, сквот в Фалеевском после почти двух лет служения музам закрылся под нажимом городских властей, сносящих старые строения ради более коммерческих зданий. Из большой и малой прессы этим событием заинтересовалась только немецкая “Цайт”.
Каренина и Фаберже.
В Европе у такой “режиссуры” не так уж много аналогов. Вспоминается только действующий всем арт-критикам назло австрийский акционист, скрывающийся под псевдонимом Отто Скорцени. Как и Епифанцев, он вместе со своими сподвижниками, увешанными с/м –атрибутикой, вначале устраивал “безобразные” и “порнографические” шоу, которые нередко накрывала полиция, так как “рекламировать действием” копрофагию, зоофилию, флагелляцию и технофетишизм Отто предпочитал прямо на вечереющих улицах разных европейских столиц. Когда Скорцени стал слишком заметен, чтобы свободно нарушать порядок дальше, он смонтировал из архива этих публичных безумств полнометражный фильм “Pegasus games”, добавив к видеохронике собственную мультипликацию “детям до 18-ти” и включив туда, собственно, Пегасуса – главного героя. Кино стало бомбой культового андоррского фестиваля “Протоплазма Европы” в 99-ом. Пегасус с одним ампутированным крылом (невозможно отделаться от ощущения, что это воплощення цитата из хита Аллы Пугачевой), силится взлететь, но не выходит ничего, кроме беспомощного жеста, напоминающего партийное приветствие времен третьего рейха. Он крошит, как сырую глину, ненужной пернатой конечностью всю эту публику: изнывающую от счастья, вымазанную в своих и чужих испражнениях, подвешанную на дыбах и зафиксированную в гинекологических креслах. Одинокое крыло превращается в косу смерти. Пазолини в своей могиле может спокойно спать.
Короче, Скорцени – очевидный духовный брат и двойник Епифанцева, хотя и знают они друг о друге очень немного. “То, что маркируется на рынке зрелищ как порнография, подрывает этику порядка и лечит общество от панического ужаса перед собственными гениталиями. Просто это должно быть инструментально примененное, а не самодостаточное, порно. Оно должно физиологически выводить нас из-под гипноза артистической, клирикальной, политической, и других мафий”. Сказал Скорцени, но мог подписаться и Епифанцев.
Одно из следующих за макбетовскими ведьмами шоу – “Страдания молодых танцоров диско или тайна Фаберже” — спектакль о том, как провинциальные ребята начала 80-ых в лосинах и жабо, с утра до вечера танцуют, чтобы поехать в Москву на конкурс танцоров диско. Вместо Москвы на них обрушивается потолок Дома Культуры. Растроганные земляки ставят танцорам памятник на главной площади городка. И когда включается музыка, случается чудо: бронзовые фигуры начинают танцевать свой “фирменный” номер назло всем смертям. Далее выясняются совсем уж шекспировские вещи: билетерша ДК всю жизнь скрывала, что ее настоящая фамилия Фаберже, и вот на сцену выкатывается гигантское “царское” яйцо, которое взрывается как бомба и оттуда встает человек-жемчужина, бессмертный супермен. Первый танцор диско на планете. Другой, совместный с Шишкиным, замысел “Анна Каренина – 2”, где все герои гибнут, неудачно столкнувшись с новейшими техническими достижениями своего века – паровоз, электропила, гидровалический пресс.
В обеих драмах всем руководит та самая фатальность, изображению которой служил ритуальный античный театр и которую так любит изображать в своих постановках Епифанцев. Изображая фатальность, мы произвольно воспроизводим ее условия, а значит лишаем ее, собственно, фатализма, превращаем смерть в добровольный поступок, а закон в однокрылого неудачника.