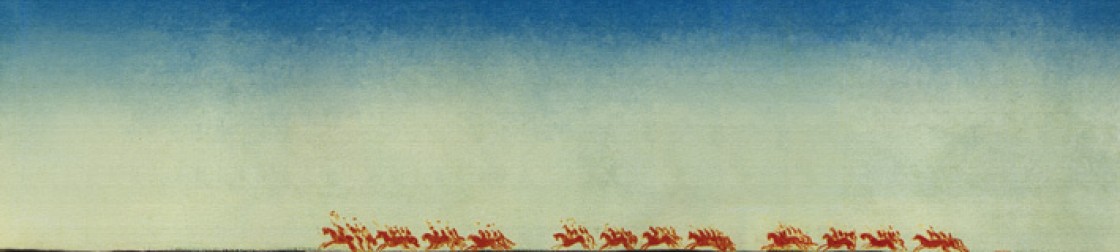К чему нас призывает Лукач?
Заинтересовавшись этим автором и его труднодоступной книгой “История и классовое сознанние”, я с радостью обнаружил, что для Лукача не существует реальности, а значит, не существует пока и истории реальности, но зато существует это самое классовое сознание, как непрерывное откладывание главного шанса, как упрямо повторяемый отказ от доступа к реальности и её истории. Все то, что, по нашему мнению, “было”, все то, что “есть” и само это “наше мнение” всего лишь недобросовестное искажение, нереализованная возможность реальности, пейзаж нашей небескорыстной и социально зависимой рефлексии.
Пролетариат по Лукачу – тот особый секретный орган в теле вышеописанной иллюзии, благодаря которому и призвана родиться реальность.
Пролетариат – та часть возможности, то парадоксальное место, через которое будет наконец реализована, снята, сама возможность. Т.е. буквально пролетариат есть объект, призванный стать субъектом, он приходит под своим красным знаменем, чтобы так возник мир, ибо мир для Лукача возможен только при условии, если сам он познает и трансформирует себя в соответствии с самостоятельно открытыми и утвержденными собственными законами. До этого момента мы имеем дело с самодовольной майей, нельзя даже сказать, что “мы имеем с ней дело”, потому что “мы” вплоть до революции столь же не самостоятельные фрагменты этого миража. Таким образом “мы имеем с ней дело” могут о себе сказать только люди, готовящие вокруг себя революцию.
Революционеры это те фрагменты майи, внутри которых зашевелилась опасная догадка, точки проникновения откровения, сгустки сна, на территории которых и случится пробуждение.
Орудие такого познания, трансформации, открытия и утверждения — человек, а точнее – пролетарий, а еще точнее – член революционной пролетарской партии.
Сам же революционный акт возникновения реальности напоминает хайдеггеровское “entwerden”, “разрешение становления”.
Возникшая реальность должна быть абсолютна, лишена искажения и занята сама собой с целью всегда становиться чем-то новым. Это постоянно разворачивающееся на поверхности, ничем не сдерживаемое, качество. Повторявшийся прежде цикл деформаций упраздняется вместе со сменой периодов “деградации и возрождения” (т.е. сменой периодов большей и меньшей рефлексии в жизни любой личности и коллектива ). Именно в этом, согласно Лукачу, и состоит историческая задача пролетарской революции.
Пролетариат как великий алхимик, изменявший, по воле эксплуататоров, все вещи, в конце концов, по собственной воле, изменяет самого себя и только тогда возникает всё: освобождается из дореволюционной тьмы пленения подлинный облик вещей, явлений и, главное, связей между ними, звучат истинные имена. “Мы наш, мы новый …” Наш язык, наше поведение, наше сознание – мы сами перестаем наконец быть чем-то темным, закрытым, кому то отданным и в чем-то нуждающемся. Мы появляемся для самих себя. “Для” отнюдь не в том буржуазном, моральном, утробном смысле, который вкладывает в этот подчинительный союз минимальный гуманизм, господствующий на территории торгующих. Точнее было бы сказать: “Мы появляемся во имя самих себя”. Это другое Для, в максимально-гуманистическом смысле. Речь идет о подчинении тому нашему “Я”, которое дано как задание и высшая возможность для самого человеческого типа. Того “Я”, которое призвано быть “законом” пробужденных и обособленных своим пробуждением от остального сна, людей, например, в “Ордене Восточных Тамплиеров” Теодора Ройсса, опрометчиво “покрестившего” в эту веру склонного к эстрадным эффектам Кроули.
Не нужно иметь семь академических пядей во лбу, чтобы опознать такое мировоззрение как довольно оптимистический вариант политической эсхатологии. В атеистическом, лукачевском изводе этой веры изначального творца заменяет сам антропос и библейский сюжет о первотворении превращается в законсперированный план, шесть дней божьей работы как своего рода декларация о намерениях, данная человеком самому себе в долг.
Лукач не раз отказывался от своих ранних статей и от вышеназванной книги, признаваясь, что в тот период он находился лишь внешне под впечатлением Маркса, а на самом деле испытывал более глубинное воздействие Ницше и даже Штирнера. Действительно, оригинальность и удача ранних лукачевских текстов, их решающее влияние на первое поколение авторов франкфуртской школы, состоит в том только, что изложена вышеописанная ситуация на языке марксистской интеллектуальной семьи, тогда как мы легко отыскиваем аналоги в языках других интеллектуальных семей, например, в гностических или манихейских версиях христианства . При таком сопоставлении, судьба пролетариата совпадает с судьбой праведников нового града, избранного спасителем народа, к которому и приходит Миссия во славе ради торжества благодати во вселенной. В шиитской традиции мы можем вспомнить о небесном халифате последнего имама, той самой утопии, которая вдохновляла антиамериканскую иранскую революцию. Любой культурный человек обратит внимание на сходство с эсхатологическим зараострийским сюжетом об окончательном разделении абсолютно реального – огня, света и огненно-световых детей от абсолютного обмана и его, до поры господствующих, креатур нижней воды и тьмы.
Привлекательность раннего Лукача только в выборе языка, не употреблявшегося ранее для изложения подобной доктрины. Условие революционности текста это порой возможность смысловой конверсии, удачного перевода образов и отношений одного языка в другой.
Левые фрейдисты в свою очередь переводили Лукача на свою феню, Вильгельму Райху и его духовным детям из “Движения 2-ого июня” (иначе называвших себя “компанией немецких пациентов”) нравился пролетариат как вагинальный принцип, революционная пролетарская партия как фаллическая ипостась коллективного Андрогина человечества и совершенная реальность коммунизма как бессмертный царствующий младенец, проекция Андрогина, в которой он зеркально отражается и воспринимает это отражение как доказательство своей потенции.
Почему же я говорю именно об анархизме? Почему анархизм, а не революционный марксизм, социальный гностицизм, некорректная религиозная ортодоксия? По очень простой причине. Самым слабым и недобросовестным в избранном Лукачем мифе, является, собственно, социальный адрес субъекта. Оптимизм никогда не ведет к познанию. Пролетариат и не мог оправдать надежд.
Это всегда очень заманчиво и облегчает проповедь: предположить, что та или эта группа и есть трансформаторы, кандидаты в субъекты, революционные алхимики, эмбрионы реальности – пролетарии, арии, старообрядцы, индейцы штата Чиапас, носители отрицающей систему контркультуры, граждане, сознательно увиливающие от порабощающего труда, члены каких-нибудь, или всех вместе, тайных организаций, праведники каких-нибудь, или всех вместе, конфессий, короче, группы, якобы обреченные на откровение самой историей.
Такие претензии на знание адреса высказываются и будут высказываться впредь людьми, близкими мне по духу, но не по идентификации. Пережив несколько таких иллюзий, стараешься быть осторожнее.
Анархизм не есть самое верное учение, но есть всегда актуальная и, по-моему, именно этим ценная тавтология. На вопрос: кто является волшебным субъектом, знающим пароль проводником к абсолютному? — он отвечает только: тот, кто является.
Тот, кто берет на себя эту задачу и кого хватило, чтобы ей соответствовать. Выходец из любого класса, конфессии, интеллектуальной семьи. Другой вопрос, что начавший столь рискованное движение неизбежно порывает и с классом и с конфессией и с семьей, и с прочими этажами социализации, попадая в своеобразное международное братство, интернационал несогласных и сопротивляющихся, связанных надконфессиональной, надэтнической, не вербализуемой в дореволюционном языке, конвенцией. Хью Ньютон называл это “революционным самоубийством” в своей одноименной книге. Смысл революционного самоубийства состоит в великом отказе от минимального гуманизма со всеми из него следующими связями. Великий отказ свидетельствует о случившемся откровении. После опыта откровения такой отказ происходит автоматически. Целью же такой отказ является только для имитаторов и, во-первых, не может заменить собой собственной причины, а, во-вторых, не может быть по настоящему осуществлен без этой причины, т.е. без опыта откровения.
Берущий на себя обязанность быть субъектом определяется, конечно, поведением, а не болтовней. Сто текстов, выступлений, семинаров доказывают вашу или мою причастность к субъекту в гораздо меньшей степени, нежели одна, вовремя и не за деньги выпущенная пуля, один взорванный памятник, один день, проведенный за дело в камере.
Как говорил председатель Мао, правильно и вовремя написанный иероглиф может вызвать бурю. Однако, гораздо чаще, иероглиф это ничего не стоящий мусор, оставленный прошлыми бурями истории на дороге обыденной жизни народа и призванный своим видом бередить сентиментальную ностальгию правящих классов по уходящим временам. Цена иероглифа редко превышает цену той капли туши, что на него потрачена.
Помимо констатации вечной вакантности исторического адреса субъекта, анархизм это еще и культ прямого действия, как единственного критерия. Хаким Бей называет такое действие “поэтическим терроризмом” или “преступным артом”. Фантастические артефакты, оставляемые анархами на площадях, в парках, метро и других общественных местах, их проникновение в чужие жилища для того, чтобы добавить к вашему интерьеру ни для чего не предназначенные и завораживающие вас вещи, пиратское радио, вклинивающееся в привычный эфир, незаметные партизанские кадры на нелицензионных копиях известных фильмов, рассылка писем, заставляющих вас какое-то время верить, что вы стали обладателем только что клонированного слона с предполагаемыми паранормальными способностями, ледникового участка в Антарктиде или нескольких тонн никем так и не опознанного экстравагантного метеоритного вещества за тридевять земель от вас, от которого все на всякий случай отказались.
Помня Ницше, предлагавшего философствовать молотом, анархист философствует арматурным прутом и булыжником, философствует, бастуя, садясь на рельсы, перекрывая движение, уходя добровольцем на далекий, но необходимый ему, фронт, или минируя витрину магазина, затерроризировавшего зрителей ежеминутной рекламой, даже захватывая балкон мавзолея, чтобы вывесить там антивыборный лозунг, анархист все-таки немного философствует, понимая, что радикальная социальная практика есть единственный, доступный ему, вид практики духовной.
На вопрос: кто является? анархизм тавтологично отвечает: тот, кто является. Таким образом, через свою тавтологию, анархизм исключает обреченность. Тот, у кого хватает ностальгии по абсолюту, чтобы соответствовать требованиям, высказанным Лукачем к революционному классу, гностиками – к армии спасителя, шиитами – к людям-членам коллективного тела последнего имама. Тот, кто способен к мобилизации, внешне противопоказанной обстоятельствами.
После окончания холодной войны современная капиталистическая метрополия чем дальше, тем больше напоминает как раз мир тотальной демобилизации, а современная массовая культура, заполняющая основную часть не занятого работой времени, в своих сюжетах, темах и принципах есть бесконечный и непрерывно перелистываемый семьями дембельский альбом, эксплуатирующий героические сюжеты в исторической либо фантастической версиях.
Я буду рад, если найдется новый автор, который докажет и назовет точный социальный адрес очередной кандидатуры в исторические субъекты. Пока же, все коллективные кандидатуры остаются лишь благими пожеланиями к сознательным люмпенам, угнетаемым меньшинствам, новым правым или новым левым, религиозным ортодоксам либо этническим пассионариям (случай Дмитро Корчинского и его “Войны в толпе”). Эти группы, гипотетически способные на многое, не оправдывают возлагаемых на них надежд, подозреваю, тут действует свой закон невыяснимости адреса, т.е. вечной ошибочности доказательного оптимизма. Восстание исключает коньюнктуру и поэтому проблема субъекта сопротивления переносится из исторической в чисто экзистенциальную оптику, во вневременную ситуацию, где не нужно никаких позитивных доказательств, ибо не они подтверждают субъектность.
Анархизм констатирует, что для человека-объекта, пытающегося стать субъектом, добивающегося “entwerden”, для пораженного откровением и опознавшего в себе нездешнего агента, избранная социальная программа является только инструментальной, столь же условной и варьируемой, как модель оружия или цвет одежды. Утопия воплощается в самом революционном акте.
Утопия анархизма это действие в качестве субъекта, а любые вспомогательные программы всего лишь сопутствующие иносказания, метафоры, намёк на положение революционера, изложенный на нашем, предреволюционном, языке. Приставка “пред-” служит в описанной ситуации скорее пространственному, нежели временному значению.
Клоун и пингвин
Отрицательный герои первого “Бэтмана” – внешний анархист, клоун без цирка, явно читал Дебора, переделывает канонизированные кураторами “шедевры” в музеях, справедливо полагая, что культ “классики” в искусстве всегда на руку тем, кто стремится заморозить социальное устройство в нынешней форме. На вопрос журналистки о своей мечте остроумно пародирует её же хозяев: “Увидеть свой портрет на однодолларовой банкноте” (скрытая критика выборного института президентской власти). Он швыряет в толпу деньги, потому что они ему не нужны, но каждый, кто позарится на них и поклонится капиталу, должен в конце спектакля заплатить за представление свою жизнь. Деньги это тест. Антибэтману нужны не деньги, а необратимые перемены.
Зато антигерой второго “Бэтмана”, человек-пингвин, явно внутренний, эволаистский анархист по повадкам, сообщник Мальдорора и информатор Лафкрафта. Не веря даже в разрушительные возможности нынешних масс, каждый день упускающих свой шанс измениться, он рассчитывает на неуклюжих и зловещих птиц нижнего полюса.
Вспомним, что с точки зрения сакральной географии все того же “Ордена Восточных Тамплиеров” Южный Полюс и вся Антарктика есть мировая воронка магнитного безумия и источник инфернальной, транслируемой телемитами, силы. Силы двусмысленной, помогающей отделиться от стада, но зовущей скрыться в воронке.
Не умеющие летать антарктические птицы – несложная метафора электората, ведь человек-пингвин согласился баллотироваться в мэры, однако, только для того, чтобы похоронить своего недалекого и самовлюбленного спонсора – электрического олигарха. Должность мэра в таком городе его не привлекает, он и так находится в подобной роли, играя в подземном полигоне со своими, управляемыми волной, но неповоротливыми, тварями. Мрачноватый гений этого террориста скрыт в сточной системе, он надеется похоронить технократию и индустриализм их же оружием, с помощью излучаемой тотальной дисциплины и тотальной технологической катастрофы.
Проигрыш обоих мы оставляем на голливудской совести постановщиков, работавших за деньги и обходивших социальный заказ только в форме намеков и недомолвок. В первом случае ангел на вертолете не может вознести опасного клоуна на небо, потому что его тащит в бездну химера выбранной борьбы. “Хэппи энд” в духе коммерческого “христианства”, предупреждающего нас об ответственности. Ответственность перед богом, если верить попам, совпадает с ответственностью перед господствующей системой. Означает ли это, что их “бог” санкционирует без разбору все государства, в свою очередь признающие права попов на доступ к ушам и глазам миллионов граждан? Попы нужны системе для того, чтобы гасить в людях инстинкт откровения, постоянно бубня о нём.
Во второй серии развязка еще дешевле: великолепный пингвин, едва умещавшийся в человечьем теле, гибнет от действий собственной подземной антисистемы. Когда постановщик не знает, как примерно наказать врага общества, его убивает им же сконструированное оружие, предельно нереалистично, но в строгом соответствии с требованиями правопорядка. Воплощенному духу правопорядка – Бэтману, противостоят анархисты, для наглядности расслоенные на эзотерику и экзотерику, поделенные на “типы”, т.е. на серии фильма. Бэтман – существо, которому сходит с рук нарушение закона, потому что закон нарушается в интересах системы, он и есть обобщенная персона системы, кое-что сообщающая нам о её генеалогии. Настоящий WASP, классический буржуа, стопроцентный элегантный англосакс, в распоряжении которого все новейшие достижения технократии, с благообразным лакеем и неразрешимыми проблемами в личной жизни. Трагическая и вроде бы устранимая, но так и не устраняемая, необеспеченность его “аристократически” выраженного либидо – вот разгадка любви Бэтмана к “справедливости”, понимаемой в полицейском смысле.
Что же касается двух анархистов-атибэтманов – внешнего (клоуна) и внутреннего (пингвина), то даже такой фильм доказывает нам: для разрушения системы и торжества альтернативных принципов эти двое должны превратиться в одно лицо.
Только внешний анархист — обреченный провокатор, который рано или поздно взорвется изнутри как безвредная хлопушка под давлением скрытой в нем пустоты. Признать себя таким пиротехническим устройством означает признать себя вовсе не тем, кто является. Свести своё восстание к публичному самоудовлетворению. Отказать себе в субъектности. Тавтология — Революция – Активизм, изолированные от своих причин, превращаются в эксцентричный грим на лице покойника.
Анархист только внутренний, визионер, скрываясь в тайных водах своей невербализуемой биографии, обречен иначе, он заранее признает поражение любой экспансии за пределы этих вод, и его стихией становится анальный мрак и гибельная задумчивость. Субъект такого восстания так и не может по-настоящему родиться, ибо на него давит внешний космос враждебной “обусловленности”. Откровение — Восстание — Сокровенная Практика невозможны без внешних манифестаций.
Три сценария
Чтобы быть как то высказанным, откровение прибегает к тавтологии, восстание формулируется в терминах революции, а сокровенная практика выражается в актуальном активизме.
На сегодняшний день анархисты используют для оправдания своей практики три основных сценария, варьируя и оснащая их деталями в зависимости от региона, аудитории и местных настроений. Три этих сценария отвечают трем основным мировоззренческим сюжетам, к которым могут быть сведены сегодня любые человеческие представления о реальности.
Первый мировоззренческий сюжет практически отождествляет человека с демиургом реальности, история в этом сюжете есть возможность устранения недоразумений между человеком как представителем творящего принципа и самим этим принципом.
Второй сюжет предполагает драматическое противоречие между миром принципов и миром их реализации. Остается вечно выяснять опытным путем разрешимо ли это противоречие, однако, оно никогда не устранимо бесповоротно. Противоречие вновь и вновь стремится к возвращению.
Третий сюжет исходит из отсутствия у человека каких бы то ни было эксклюзивных прав на реальность, а значит, любой бунт против такой “богооставленности” имеет исключительно внутреннее значение, является самодостаточным произволом и не ведет ни к каким качественным и объективным изменениям.
Прежде чем открыть рот в чьем-то присутствии анархист хотя бы в общих чертах пробует уяснить для себя мировоззренческий сюжет своего собеседника и уже после этого иносказательно поясняет анархистскую практику в ландшафте выбранного сюжета и при помощи одного из соответствующих сюжетам сценариев.
Первый сценарий предполагает необходимость и возможность либертарного прорыва на территории самых обеспеченных, индустриально и информационно развитых стран, т.е. революцию на исторической родине транснациональных корпораций. В подтверждение такой вероятности приводится антиглобалистский всплеск, возрождение внепарламентских антибуржуазных движений, рост социалистических симпатий даже в “дезинфицированном” сознании среднего класса. Согласно этому плану, практика состоит в том, чтобы поддерживать любой – профсоюзный, феминистский, экологический и т.д. — протест, углублять всякое сопротивление, придавая локальному недовольству глобальный смысл, требовать до тех пор, пока система не будет дезорганизована требующим фронтом и не начнет рушиться под давлением изнутри. Недостаточная активность населения для реализации такого сценария объясняется “патологизацией толп”, осуществляемой с помощью масс-медиа и масс-культуры, и потому столько внимания уделяется росту и распространению альтернативного стиля жизни – поведения — сознания — восприятия, призванных в перспективе конкурировать с телевизионным облучением и вывести из пассивности достаточное для прорыва число людей. Для мобилизации людей ради этого сценария применяются варианты ориентирующих утопий.
Например: революция даст возможность перераспределения корпоративных средств, что приведет к невиданному росту повсеместной автоматизации, а следовательно, сделает любую работу отныне и вовеки необязательной. Каждый житель земли по праву рождения будет получать необходимое для жизни пособие и сам станет распоряжаться своим временем и энергией. Труд после революции станет исключительно добровольным. Большинство людей в первом же послереволюционном поколении станут тратить себя на творчество и свободную от системного заказа интеллектуальную деятельность.
Современные технологии вполне позволяют достигнуть такого результата в самом ближайшем будущем, однако это будущее не наступает, потому что оно не сулит сверхприбылей корпорациям, упраздняет подавляющие и подавляемые классы и ставит государственную власть перед проблемой ничем не занятых праздных толп. Следовательно, революция должна упразднить корпорации, отменить эксплуатацию и растворить государства при помощи повсеместной самоорганизации людей, объединенных либертарными настроениями.
Такой, наиболее оптимистический, сценарий находит приверженцев скорее в странах “золотого миллиарда”, среди людей среднего класса, гуманитарных студентов и склонных к личной самостоятельности высоко оплачиваемых профессионалов.
Второй сценарий более драматичен и найдет аудиторию скорее в странах третьего мира, а так же в группах, традиционно склонных к общинности, коллективному энтузиазму, здоровому аскетизму и соблюдению неписаных норм народной морали.
Согласно этому сценарию, никакого освободительного прорыва в странах капиталистических метрополий давно уже произойти не может т.к. метрополии практикуют в отношении всей остальной планеты неэквивалентный экономический обмен, на евро-американской территории “золотого миллиарда” существует искусственно завышенный уровень жизни, который никогда бы не был достигнут без тотального планетарного грабежа, а значит, все граждане этих стран, включая самых эксплуатируемых, объективно относятся к “коллективным эксплуататорам” остального мира и поддерживать их борьбу за дальнейшее улучшение качества жизни аморально и бессмысленно. Поддержка любых экономических и социальных требований лево-радикалов в развитых странах приведет отнюдь не к дележу собственности и власти в пользу нуждающихся, но к еще более мучительной эксплуатации третьих стран транснациональными корпорациями и передовыми государствами, перешедшими в фактическую собственность этих корпораций. Следовательно, не смотря на то, что интеллектуальный и технологический ресурс обеспечения борьбы находится в наиболее развитых странах, революция ожидается вовсе не на их территории, но как раз таки в третьем мире, где в обостренной форме сохранились все неустранимые противоречия между разными классами, а так же между населением и открыто враждебным ему классовым государством. Раз поддержка протеста в развитых странах стратегически неверна, значит все усилия революционеров должны быть перенесены за пределы стран-метрополий. Капитализм заканчивает возведение единой планетарной системы эксплуатации, в которой государства не играют уже прежней роли. Поэтому грядущая революция будет иметь характер планетарной гражданской войны. Вначале наиболее нищие, “дикие” и “аграрные” регионы третьего мира завоевывают себе относительную партизанскую автономию, оттуда революция двигается к большим городам, чтобы захватить центры промышленности и власти. Дальше неизбежен геополитический конфликт “вышедших из под контроля” стран с мировой метрополией, и появление, вместо одного, двух планетарных проектов – мирового глобализма против мирового революционного интернационала. Для подтверждения возможностей такого сценария приводятся примеры действий сапатистов на юге Мексики, современных колумбийских, перуанских, эквадорских и т.д. партизан, а в “доминирующих” странах рост числа всевозможных “изоляционистских” поселений (от религиозных сект до связанных в бартерные цепи аграрных экологических коммун) и других проектов, стремящихся к альтернативным формам жизнеобеспечения и максимальной автономии от системы.
Постсоветская территория в такой оптике оценивается как стремительно распадающаяся на “столичное” меньшинство, с некоторыми оговорками умещающееся в стандарт жизни “золотого миллиарда” и основное население новых стран, возникших на территории советского блока, жизнь которого окончательно скатилась к условиям и правилам третьего мира. Поэтому некоторый конфликт настроений, вкусов и сюжетов сопротивления в мегаполисах и провинции должен непременно учитываться теми, кто выступает как агент будущего восстания.
Например, если в первом сценарии акцент делается на небывалую реализацию индивидуальных возможностей личности и отказ от массы системных запретов и ограничений, то во втором, адресованном другой аудитории, особо могут подчеркиваться мотивы коллективной ответственности и классовой справедливости, а грядущая большая война между угнетенными и угнетателями может приобретать мифологически экзальтированную окраску, вплоть до эсхатологических настроений.
Третий сценарий наиболее пессимистичный и экзистенциальный, рассчитан скорее на тех единиц, которые не нашли себя в системе, но не в силу отставания от неё, а наоборот – по причине невостребованного обгона, оверквалификейшн. Вокруг нас всегда есть люди, добившиеся гораздо большего, чем нужно для реализации принятой в обществе нормы счастья. Именно эти люди, у которых “есть все и еще чуть-чуть”, острее других чувствуют всю уродливость предлагаемой системой “реализации” и сильнее других стремятся к “невозможному”. Это те, кому “невозможное” действительно необходимо. Откровение проявляется в них не через бунт против произвола и не через деятельную солидарность с угнетенными, но посредством никуда не умещающегося и “опасного” избытка личного ресурса. Именно этот тип поставляет в историю наиболее “фанатичных” и самых непримиримых единиц, вроде основателей немецких RAF или эсеровской боевой организации начала двадцатого века. Для того чтобы мобилизовать таких людей, бесполезно обещать им праздность, творческую реализацию или экономическое освобождение целых народов.
В третьем сценарии капитализм полностью справляется со всеми глобальными противоречиями, существовавшими в его системе. Справляется с помощью выведения новых, контролируемых при помощи зрелища, одномерных людей, двуногих насосов с заранее смоделированным сознанием, прогоняющих сквозь себя в разном направлении большие и малые потоки капитала. Среди этих фантомов, жизнь которых не имеет никакого внекапиталистического смысла, существуют лишь редкие и роскошные недоразумения, единицы, в силу тех или иных “нежелательных” причин сохраняющие видовое достоинство и некоторые незапрограммированные цели и желания. Максимум для таких персон – поиск себе подобных и объединение в небольшие конспиративные альянсы, абсолютно непонятные и пугающие остальное общество, преследуемые государством, ведущие свой, внутренне необходимый им, джихад, священную войну, выражающую их духовное делание.
В наиболее радикальных вариантах третьего сценария интеллектуальная и преобразующая мир функция человека вообще постепенно передается более способному к решению таких задач искусственному разуму машин, суперкомпьютеры ближайшего будущего перехватывают факел эволюции у человечества, пробежавшего свой круг и впавшего на финише в маразм. Люди как вид остаются, не вписавшись в исторический поворот, на периферии истории мира. Их более деятельные и совершенные создания, ставшие передовым отрядом трансформаторов реальности, все сильнее удаляются от бессмысленной и не способной качественно измениться антропоморфной толпы. В этой толпе остаются парадоксальные исключения, красиво и бесполезно мерцающие последние искры пассионарности, пережившие пик собственного вида, и беспокоящие толпу просто потому что не могут с ней слиться и стать простыми рыночными приматами, из которых толпа отныне и вовеки состоит.
Внутренний и внешний анархист, подлинная утопия которого это само восстание, а не его историческое выражение и уж тем более не некое “послереволюционное” бытие, использует три вышеназванных сюжета, детализируя их на местности и по ситуации, как буддистский наставник использует пробуждающие коаны или гностик — посвящающие притчи. Речь может идти об обострении протеста на территории мировой метрополии, о деятельном участии в антиимпериалистической борьбе, о контркультуре, о непроницаемых большим социумом линзах инобытия, о теологии освобождения или о технологии дестабилизации режима жизни современного мегаполиса, об избавлении от воспитанного семьей невроза или о концептуально новом способе общественного воспроизводства, для анархиста, говорящего об этом, речь всегда будет идти о другом: о провокации пробуждения, об откровении, которое человек однажды обнаруживает в себе и узнает, что если оно ЕСТЬ, значит, нет никакой системы, её истории и её “наиболее разумной на данный момент” власти, поэтому с этой властью не может быть никакого тактического консенсуса и временного компромисса. Анархист не может обнаружить это откровение вместо вас у вас внутри, зато он может попытаться его спровоцировать, тронуть с места первый камень вашей лавины-интифады. В самом общем смысле именно эта провокация и называется анархизмом.
Архив
Внутренний анархизм, если не пытаться разыскивать его ещё у киников, Катилины, Аввакума, нетовцев или хлыстов, в отечественном культурном архиве напоминает прежде всего о Георгии Чулкове и его мистическо-анархистском альманахе “Факелы”, в котором помимо составителя активно публиковались Вячеслав Иванов и Александр Блок.
Чулков считал мистические увлечения Бакунина не менее важными для его последующей судьбы, нежели всем известное, более позднее и декоративное, увлечение Михаила Александровича левым гегельянством. В «Факелах» “эзотерический анархизм” демонстрировался на примере “предтеч” – Владимира Соловьева с его умозрительной софиологией и биографии Достоевского, которую Чулков считал более искренней и важной, нежели литературное и, в особенности, критическое творчество писателя. Однако ни что не дает такого представления о мистико-анархистском настроении начала века, как проза самого Чулкова. Например, в “Валтасаровом царстве” мы находим художественную параллель между экстремальным старообрядчеством и революционной социальной деятельностью, плюс крайне радикальное отрицание романовского периода русской истории, соединившего в себе капитализм, авторитаризм и огосударствленное псевдохристианство. Тоже самое можно сказать и о наделавшей шуму в 16-ом году поэме “Степан Разин” Василия Каменского, входившего в анархо-футуристическую группу “Гилея”.
Чулков, опять же отсчитывая себя от Штирнера и Ницше, предполагал необходимость конфликта мистического и эмпирического “я”, в результате которого побеждает мистическое. Он считал, что неприятие эмпирического мира и неиссякаемый инстинкт его перманентного преображения сами по себе есть констатация человеком позора собственной детерминированности, признание себя объектом, продуктом, товаром, а из такого искреннего признания неизбежно следует протест, диалектическое преодоление горизонтального детерминизма, пробуждение субъекта, автора, демиурга. Таким образом, само эсхатологическое, революционное мироощущение было для Чулкова прежде всего формой свидетельствования о неотмирной, нездешней т.е. недетерминированной, печати человеческого присутствия.
Критикуя замкнутость внешних, чисто политических, анархистов, “Факелы” предупреждали о соблазне анархизма как самоцели, предостерегали от опасности самодостаточного социального аскетизма, превращающего революционеров в сектантов, и напоминали, что внешний анархизм это только вынужденная практика, отчаянный метод, поведенческая метафора, вызванная поведенческой же, цензурой.
При большевиках дело “Факелов” продолжал более засекреченный круг – тамплиерский “Орден Света” Солоневича и Никитина, разгромленный НКВД в 1930 г, от которого нам остались лишь позже записанные орденские легенды, потерявшие актуальность не то из-за отсутствия ключей дешифровки, не то по причине изначального салонного маньеризма и морализаторства.
Из европейских теоретиков двадцатого столетия к оккультным анархистам прежде всего относил себя Теодор Ройсс, взгляды которого буквально совпадали со взглядами Чулкова.
Термин “правый анархизм”, совпадающий с анархизмом внутренним, мы находим в поздней книге Юлиуса Эволы “Оседлать тигра”, там эта концепция прямо пересекается с фигурой “партизана последних времен”, описанной Карлом Шмиттом, и с “анархом” Эрнста Юнгера.
Оккультистом и исмаилитом был и остается культовый анархистский автор Хаким Бей (“Двигающиеся автономные зоны” и “Миллениум”), а так же его близкий соратник Адам Парфри, составитель антологий “Пятый Путь” и “Культура Апокалипсиса”. Любопытно, что и Теодор Ройсс и Хаким Бей в своих самых некорректных текстах обращаются к образу великого провокатора древности, суфия Аль-Халладжа – мистического подвижника, отрицавшего необходимость государственной и жреческой власти, утверждавшего, что мир видел только двух монотеистов – Иблиса и Мухаммада, и зверски казненного по приказу мусульманских законников в Х веке. Хаким Бей посвятил его памяти несколько пронзительных и актуальных “терроростихов”.
Чтобы не увлекаться перечислениями и не соблазнять читателя дальнейшими “примерами” из архива, достаточно сказать, что внутренний анархизм, противопоставленный шутливо, но точно названному чисто внешнему “палеоанархизму” предшествующих левых, принимает всех, кто готов воспринять его стихию как свою собственную, и если мы говорим о радикальной тавтологии, то каждый случай внутреннего, онтологического анархизма начинается как бы с нуля, любые “образцовые” истории вряд ли что-то добавят или как-то помешают вашему опыту. Этот анархизм творит из любого материала, потому что не имеет ни с одним из материалов никакого генеалогического родства.
Социальная миссия и цвет флага
У анархизма, даже в самом внешнем, т.е. социальном, смысле растут перспективы в западном обществе, как и вообще у всякого радикализма. Наблюдатели связывают это с геополитическим поражением советского блока, а значит, с утратой возможности социального шантажа верхов со стороны дискриминируемых, выгодно разыгрывавших советскую карту во второй половине ушедшего века.
Новая, принятая в постиндустриальном обществе контроля, система “гибкой” или “домашней” эксплуатации упраздняет многие из прежних социальных завоеваний, гарантий, велфер-стэйт, а так же существенно тормозит нежелательную для транснациональных компаний “гедонистическую” эмиграцию из третьих стран, что приводит все чаще к прямым уличным столкновениям и другим непарламентским, даже неконституционным, формам выражения недовольства, в которых тамошние анархисты и их симпатизанты традиционно играют детонирующую роль. Подробно эти “глубинные”, в смысле не всегда заметные для читателей популярных СМИ, процессы проанализированы в работе Карла Хайнца Ротта “Возвращение Пролетариата”, изданной у нас русской секцией “Международной Ассоциации Трудящихся” или в новой, написанной уже в заключении, совместно с Майклом Хардом, книге Антонио Негри “Империя”.
Возможно, главное внешнее послание анархизма это попытка оценки любых коллективов по достигнутому в них уровню доверия, а не по экономическим или информационным показателям.
Уровень доверия в разных сообществах может оставаться в рамках семьи, клана, банды, этнической диаспоры и т.д. Может понижаться (победа системы) или повышаться (успех анархии). Людьми, которые не доверяют друг другу, легко управлять, достаточно определить границу: где кончается их уровень и с какой ноты они уже могут быть запросто противопоставлены друг другу.
Князь Кропоткин признавался, что впервые серьезно ощутил губительное влияние государственности на личность, путешествуя по Сибири и наблюдая ежедневную жизнь кочующих автохтонов и “скрывшихся от петербургского антихриста” духоборческих общин. И там и там был выражен совершенно непредставимый для столичного жителя уровень доверия. Именно тогда главный общественный вопрос был для Петра Алексеевича решён, а европейская прудоновская терминология потребовалась только для того, чтобы сформулировать это решение в доступной тогдашней интеллигенции форме.
Проблема доверия прямо связана с мировоззрением и методологией. Мировоззрение статистически обычных людей массового, буржуазного, информационного общества начала двадцать первого века не может превратиться в методологию, т.е. стать их практическим повседневным руководством, оно отчуждено и напоминает скорее моральную мифологию, вечно и привычно вопиющую совесть.
Такое отчужденное мировоззрение, в какой бы лексике оно не выражалось и в харизме каких бы лидеров не воплощалось, остается мифом, принимает желаемое за действительное до тех пор, пока, наконец, мировоззрение не превратится в методологию. Многочисленные фабрики грёз, с конвейеров которых сходят массовые легенды, эксплуатируют как раз эту невозможность превращения мировоззрения из мифологии в методологию. Таких людей ничего не стоит подчинять сколь угодно долго, используя объекты их мифологии как вечную и никогда не достижимую приманку. Зато с теми, кто личным усилием сделал своё мировоззрение методологией, остается либо бороться, либо дружить, их существование сразу же становится для общества контроля фактом, игнорировать который нельзя.
Уровень доверия всегда связан с возможностью превращения вашего мифа в метод. У автохтонов, наблюдаемых Кропоткиным в Сибири, шаманизм был практическим руководством к любым ежедневным действиям, у их соседей-духоборов все поступки проверялись исповедуемым общиной радикальным православием.
В минуты общественного подъема, революции, социальной экзальтации, вас примут за своего, разделят с вами хлеб, вино и горсть патронов только из-за вашей принадлежности к побеждающему классу или освобождающейся нации. Уровень доверия в рамках целого народа описан Аркадием Гайдаром в его сказке о военной тайне. Тайну знала вся страна, но никто её не выдал. Вообще, советская литература, адресованная пионерам, как правило использует анархистские образы и идеи, гримируя реальный советизм, существовавший по несколько другим правилам, нежели герои, оправдывавшие этот советизм в сознании детей.
“Экстремальная” литература второй половины двадцатого века — будь то герой сартровской “Тошноты”, берроузовского “Завтрака”, уэлшевского “Трейнспотинга”, хоумовского “Встань перед Христом” — демонстрирует как центральную проблему нечто обратное, кризис доверия даже в границах сознания отдельной атомарной личности. У их единственного, всегда одного и того же, героя, уровень доверия понижен до нуля, т.е. герой доверяет только себе, но за этим нулем быстро обнаруживается минусовая степень, навязчивая тема — герой перестает доверять себе и распадается на созвездие спорящих и конкурирующих несчастных сущностей, хоровод неполных и антагонистичных химер.
Фукуяма в своей “The Social Virtes and Creation of Prosperity” нарочно смешивает такие понятия, как “уровень доверия” и “уровень корпоративности”, заминая бескорыстную, иррациональную основу доверия в отличие от корпоративности, исходящей из обязательного, заранее оговоренного наказания для нарушителей соглашения. Доверие не предполагает никакой внешней ответственности, кроме ответственности перед самим собой, и степень этой ответственности, достигнутая каждым из нас, и есть наш личный градус доверия.
“Корпоративность” Фукуямы выгодна монополистическому капитализму как основа его плановости. Плановость современного корпоративного хозяйства должна держаться на чем-то пародирующем доверие, ведь буржуазность это синоним паразитарности и бездарного заимствования, у неё нет никаких собственных оснований для самосохранения, кроме симулякров, т.е. сценариев, украденных и искаженных либо в докапиталистическом прошлом, либо в посткапиталистическом “полагаемом будущем”.
От чтения Фукуямы возникает впечатление, что он внимательно изучал тексты Ленина об империализме как высшей, планетарной стадии власти капитала, когда сама возможность сознания людей заранее конвертируется в капитал при помощи информационного террора системы. Изучал и пересказывал их с обратным знаком. Журналисты чаще называют этот строй “глобализмом”, “новым мировым порядком”, геополитики – “мондиализмом”, хотя порядок довольно военный и мир под ним все-таки не весь и отнюдь не единый.
Культ доверия, не искаженного корпоративностью — социальная миссия анархистов, их вклад в международный революционный проект. Чем больше людей готово помочь вам, участвовать в вашей жизни, считая её и своим делом на основании вашей с ними идентичности: — “он наш, потому что он анархист, революционер, эксплуатируемый, русский, белый, принадлежащий к человеческому виду, прямоходящий, теплокровный, живой, существующий (здесь ряд пока обрывается)” – тем ближе мы, по мнению анархистов, к свободе. Православный эзотерик Григорий Палама в своих проповедях предлагал чтить как братьев во Христе и ценить не меньше, чем себя все деревья, дома, камни и остальные предметы города, в котором ты поселен создателем.
Их мозг охвачен идеологией, как пламенем. Идеология – это личный миф, ставший личным методом. Им недоступна магия имени и гипноз авторитета. Наши здешние имена условны, а авторитеты оплачены кем-то как даровая похлебка для поиздержавшихся духом.
Помимо социо-экономических, более или менее способствующих, предпосылок анархистской практики, всегда остается и метафизика революционного флага, вечно актуальная притягательность этой манящей вертикали. В этом пафос внутреннего анархизма и его тавтологии. Этот пафос, как и сам флаг, совершенно не нов. Флаг означает вертикаль, а его цвет лишь зовет нас к ней. Черный предпочтительнее потому, что это цвет отказа, отсутствия, изъятия всех обманывающих возможностей спектра. Одни предпочитают поддерживать эту вертикаль, другие — за нее держаться. Оказаться в числе первых – честь, в числе вторых – шанс.
Метафизика левого политического проекта изначально заключена в его внутренней анархической составляющей, без которой освободительное дело обязательно вырождается в упрямое и идиотское желание сделать всех полуграмотными и полуголодными.
*Выступление в Московском Институте Философии в апреле 2000-го года.